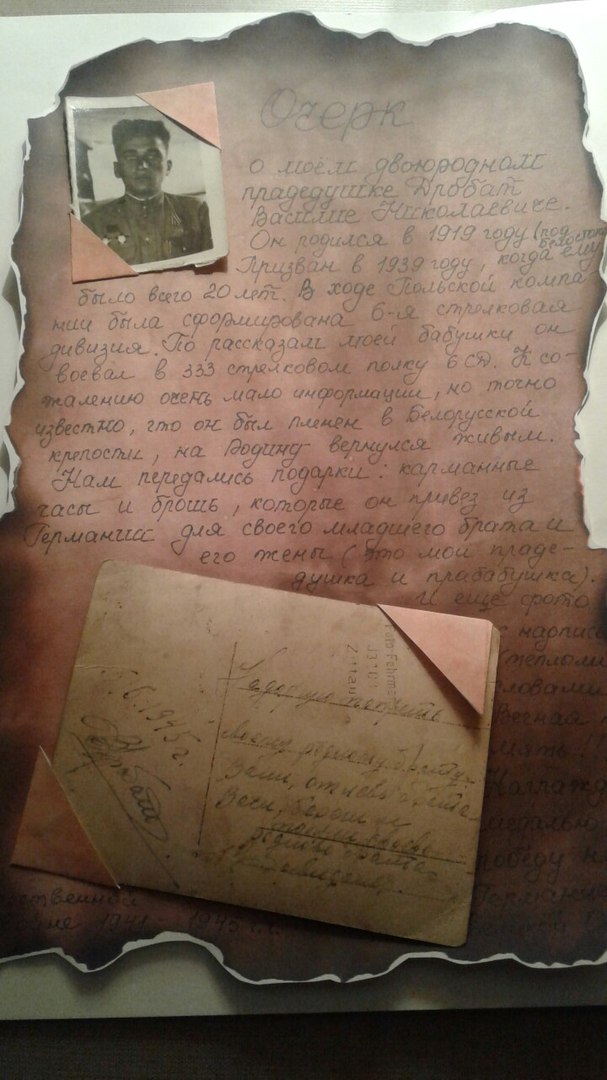Мой прапрадедушка, по материнской линии, Рябухин Петр Иванович участвовал в Советско-финской войне 1939-1940 годов, в Великой Отечественной войне и в Японской войне 1945 года. В Японской войне его отряд долгое время находился в болотистых местностях, много солдат погибло. После этого дед всю жизнь страдал от астмы. Жил в Башкирской АССР, Кигинский район, село Ивановка. После войны работал бригадиром в совхозе. В каждом доме в годы войны был голод. Прабабушка вспоминает, чтобы поесть они собирали и лебеду, и крапиву, и осот, собирали украдкой колоски, прекрасно понимая, что их могут арестовать и отправить в лагерь, если их обнаружат в поле с колосками. Весной ели мороженую картошку. Трудные времена были и после войны. Прапрадед занесен в список на мемориальной доске в поселке Магнитка Кусинского района. Умер в возрасте 59 лет. На фото Петр Иванович посредине.
Мой прапрадедушка, по материнской линии, Рябухин Петр Иванович участвовал в Советско-финской войне 1939-1940 годов, в Великой Отечественной войне и в Японской войне 1945 года. В Японской войне его отряд долгое время находился в болотистых местностях, много солдат погибло. После этого дед всю жизнь страдал от астмы. Жил в Башкирской АССР, Кигинский район, село Ивановка. После войны работал бригадиром в совхозе. В каждом доме в годы войны был голод. Прабабушка вспоминает, чтобы поесть они собирали и лебеду, и крапиву, и осот, собирали украдкой колоски, прекрасно понимая, что их могут арестовать и отправить в лагерь, если их обнаружат в поле с колосками. Весной ели мороженую картошку. Трудные времена были и после войны. Прапрадед занесен в список на мемориальной доске в поселке Магнитка Кусинского района. Умер в возрасте 59 лет. На фото Петр Иванович посредине.
Прапрадед Вахрамеев Иван жил в Башкирской АССР, Кигинский район, село Ивановка. Его отчество прабабушка не помнит, потому что он умер в тот год, когда она родилась. Год рождения прапрадеда 1907. Рассказывают, что он был хорошим кузнецом, даже кровати в доме были с красивым кованым изголовьем. Умер от ангины в мае 1939 года в возрасте 32 лет.
Прапрадед Чухнин Василий Дмитриевич в годы Великой Отечественной войны был механиком по подготовке военных самолетов к полету. Жил в Башкирской АССР в селе Нижние Киги. После войны работал начальником почты. Умер в возрасте 67 лет.
Прапрадед Голдырев Степан жил в Башкирской АССР, Белокатайском районе, селе Шакарла. В 1941году погиб под Москвой во время наступательной операции в возрасте около 40 лет.
 Мой прадедушка, по отцовской линии, Ермошенко Пётр Кузьмич. Родился 10.08.1910 года на Украине в Харьковской губернии, Вовчанской волости, в деревни Землянки в бедной многодетной крестьянской семье. В 30-е годы переехал в Алтайский край в село Первое Поломошное, где встретился с моей прабабушкой Марией Сидоровной. После войны работал шофером в колхозе. Умер в возрасте 67 лет.
Мой прадедушка, по отцовской линии, Ермошенко Пётр Кузьмич. Родился 10.08.1910 года на Украине в Харьковской губернии, Вовчанской волости, в деревни Землянки в бедной многодетной крестьянской семье. В 30-е годы переехал в Алтайский край в село Первое Поломошное, где встретился с моей прабабушкой Марией Сидоровной. После войны работал шофером в колхозе. Умер в возрасте 67 лет.
 Прадед Гнедиков Григорий Филиппович. Родился 10.04.1910 году в Алтайском крае в селе Первое Поломошное. В дальнейшем жил в республике Киргизия в г.Фрунзе. У него с моей прабабушкой Евдокией Федотовной была многодетная семья. Они воспитывали шестерых детей. В то время многодетным матерям вручалась награда «Медаль материнства». Эта медаль хранится у моего деда. Говорят, что прадед хотел дожить до следующего века. Его мечта почти сбылась, он не дожил до 2000 года всего два месяца. Умер в возрасте 89 лет.
Прадед Гнедиков Григорий Филиппович. Родился 10.04.1910 году в Алтайском крае в селе Первое Поломошное. В дальнейшем жил в республике Киргизия в г.Фрунзе. У него с моей прабабушкой Евдокией Федотовной была многодетная семья. Они воспитывали шестерых детей. В то время многодетным матерям вручалась награда «Медаль материнства». Эта медаль хранится у моего деда. Говорят, что прадед хотел дожить до следующего века. Его мечта почти сбылась, он не дожил до 2000 года всего два месяца. Умер в возрасте 89 лет.
Двоюродный прадед, Гнедиков Дмитрий Филиппович, прошел всю Великую Отечественную войну. На фронте был ранен в ногу. Ранение не прошло бесследно, он хромал всю оставшуюся жизнь.
Кулясов Александр Федотович, двоюродный прадед, погиб в битве на Курской дуге в 1943 году. Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. По своему ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет себе равных.
Двоюродный прадед, Кулясов Иван Федотович, родился 1910г. В 1941-1945 гг служил офицером в Киргизской ССР, в городе Фрунзе на призывном пункте по мобилизации солдат на фронт. Имел Орден Красной Звезды за подготовку кадров для Вооружённых Сил СССР. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» После войны работал инспектором пожарной части. Умер в возрасте 77 лет. (Приложение №4)
Померко Алексей Григорьевич, двоюродный прадед, в годы Великой Отечественной войны служил лейтенантом, дошел до Берлина.
Домой вернулся только в 1947 году, потому что Берлин и вся Германия была поделена союзниками на зоны оккупации. За боевые заслуги прадедушка был награжден медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина от 2 мая 1945 года ему объявлена благодарность.
Еще мы узнали, что мой прапрадед Плужник Сидор погиб в 1920 году в Гражданской войне. Воевал за Красную армию.
Кирилл Кулясов, 7э3